ПОМУТНЕНИЕ Общение с умотанным (если не в хламину, то...
ПОМУТНЕНИЕ
Общение с умотанным (если не в хламину, то уже близко к этому) братом меня не улыбало. Все указывало на то, что остаток ночи мне суждено страдать. Я знал, во что превращается Сева после потребления горькой, а стало быть, мне самому предстоит немало вылакать, дабы «не обидеть брата». И как итог, весь следующий день промучиться с головной болью и беготней в туалет. И мне крупно повезет, если увеселительная ночь обойдется только убитым днем с треском в голове и безостановочным рыганием. Я тяжело вздохнул, глядя на едва стоявшего на ногах Севу.
— Пасибо, отец, — он протянул таксисту мятую купюру, толкнул меня в плечо. — Ну че. Открывай.
Я распахнул подъездную дверь, впустил брата. Квартира, где мы жили второй месяц, находилась на первом этаже. Пятиэтажная хрущевка — на отшибе, в самом сердце бывшего промышленного района. Ныне львиная доля жильцов — алкаши и наркоманы, бывшие и будущие зеки, беспризорные дети и брошенные старики. Зато это было единственное доступное нам жилье на первое время. Хозяйка попросила за съем заманчиво низкую цену.
— Открывай! — смеялся Сева, размахивая трехрублевым пакетом из круглосуточной рыгаловки, полным дрянного пойла.
Мы ввалились в унылую однушку. Сева тут же заскочил в ванную, стянул грязные брюки и пустил струю в раковину. Оттолкнув ногой гору алкоголя, я упал на диван.
— Жека! — послышалось из санузла. — Ты где там?
Я не ответил. Меня кружило и тянуло блевать, стоило чуть закрыть глаза.
— Ну ты где?
— В комнате, — слабым голосом прошелестел я.
— Ты где? Ау! — В коридоре грохнулась полка.
— В комнате, говорю.
Именно такого Севу я ненавидел более всего — конченого синяка, с идиотскими воплями и цитатами их киношок. Клянусь, я бы мог порешить его, рука бы не дрогнула.
— Сэ-э-эр? Ты где?
— Да в комнате я! — зубастая злость оттесняла хмельные страдания. Я забыл о сне, хотя толком не спал двое суток из-за бабских воплей по ночам на детской площадке; из-за дерьма, именуемом в широких кругах «музыкой» из подростковых телефонов; из-за скрежета пивных банок, что по утрам давили бомжи и укладывали в сумки. И вот теперь Сева капал на мозги... капал, мягко сказано. Бросал кирпичи.
— Ну ты чего? Пойдем на кухню!
Какой же тошнотно мерзкий голос делался, когда братец заливал кабинку; как же воротило... Понимая, что в ближайшие пару часов покой мне не светит, я тягостно поднялся и заковылял на обшарпанную кухонку. Там за шатким столом Сева деловито расставлял баклажки, банки и бутылки с пивом, коктейлем и водкой. При виде сего добра желудок мой отяжелел, перевернулся, точно на бешеной карусели в парке, куда мы с братом ходили в далеком детстве за долго до того, как оставить отчий дом и перебраться во Владимир в поисках лучший жизни.
— А вот и но-о-ос! — он откупорил банку, пенистая жидкость полилась мимо стакана. — Еба! Давай помогай! Оу!
— Слушай, — я отпил пива. — Давай по стаканчику и баиньки пойдем.
— Да нормально все будет, — Сева с тысячной попытки сорвал защитную пленку с пачки сигарет. — Жек, последний день отпуска у меня. Ну ты чего! — он закурил. Крохотная кухонка тут же наполнилась дымом.
— Я понимаю. Ты все бабки отпускные спустил на бухло. Платить чем будем за хату? — говоря это, я проявил всю деликатность на какую был способен. Аренду и большую часть продуктов оплачивал Сева. Он трудился на хлебозаводе и училися заочно. Я же поступил в нептуаколледж на очку, и окромя смехотворной стипендии за хорошую учебу, ничего не приносил.
— Это ты Джон Уэйн? Это я...
— Сев...
— Да не переживай ты. Меня попросили в ноябре за чувачка одного поработать. Так что денежка небольшая будет капать. Пей давай. Где пепельница?
Он встал с табуретки, ненадежно ступил к подоконнику, где среди пакетов, нерабочих зажигалок и бельевых прищепок отыскал металлическую пепельницу в форме физиономии чёрта. Я понуро уставился на свой тапок. Едва получится поспать. Есть только один опасный вариант усыпить брата — выбить клин клином.
— Слушай, давай накатим, — я свернул голову с бутылки, плеснул в стакан беленькую. В нос шибанула резкая вонь этилового спирта. Себе же наполнил емкость пивом. Забрался в холодильник. В одинокой сковороде покоились две недоеденные котлетины. Там же в засохшей подливе схоронился ножик.
— Зачем тебе ножи для масла? — Сева стряхнул столбик пепла. За запотевшим оконным стеклом ожила бабища с сальной копной рыжих волос с третьего этажа. Всех соседей я выучил так: по пьяным воплям.
Сева раздавил окурок, взялся за стакан.
— Накатим. Последний день отпуска, Жек, — он подмигнул мне, опрокинул беленькую, поморщился, подцепил кусок котлеты ножиком и отправил в рот.
Когда бутылка водки с двумя баклахами пива и пачкой томатного сока (в качестве запивки для водки) были опустошены, я осторожно отвел братца в комнату.
— Джони... они прячутся в деревьях, — пускал слюни Сева.
— Тихонько, щас я помогу, — я стянул с него одежду, завалил на диван. Лег сам. Рядышком, с краю. Тошнило. Череп трещал.
— Повернись... лицом ко мне, — бухтел Сева.
— Ща бок отлежу — повернусь.
Возмущенный желудок понемногу отпускало. Я засыпал. Сквозь дремоту услышал шевеления брата. Кажется, он поднялся с дивана. Пускай. Спать. Спать. Долгожданный сон накрывал изможденный мозг.
Спать. И пусть хоть потоп.
Из тяжелого сна меня выдернули движения. Подскочил озираясь. В комнате царила темень, лишь чуть угадывался синеватый квадрат окна. Привыкнув к темноте, узрел фигуру по центру комнаты.
— Сева? — произнесли мои губы.
Молчание.
Я нашел силы еще раз позвать:
— Сева?
В ту тяжелую минуту я испытал нечто липкое и цепкое. То, отчего мороз по коже царапнул.
— Сева, не молчи? — я испугался собственного голоса, но еще более — молчания.
И вот шепотом брат заговорил:
— Жека. Я ее видел.
По его голосу было ясно, он испуган не меньше.
— Кого видел?
— Женщину... Женщину видел, прикинь. Мимо прошла. Вот. Вон оттуда, — он указал в угол комнаты, и все нутро у меня оледенело. На секунду показалось, что там в темном углу между окном и старым шифоньером действительно стоит кто-то. Хотел я сказать, сказать твердо и уверенно: кончай х*йней заниматься, спать ложись. Да только слова выдавить не смог. Точно гортань омертвела. Как в кино прям.
— Я глаза открыл. Смотрю, а она стоит. Чуть голову наклонила. Стоит и смотрит на меня, — Сева изобразил, как стояла его женщина, и я, клянусь, подумал, что умру сейчас. Так уж жутко вывернул брат шею и слегка наклонился. — А потом в кухню она ушла. А я следом пошел, Жек. Я сел напротив нее за стол, закурил. Смотрю: сигарета как-то странно тлеет. И лампочка горит черти как. А она, женщина, кивнула мне: уйти отсюда. Уходи, как будто сказала, молча. Жек, пойдем посмотришь.
Я ожил и заговорил, только не твердо и уверенно, а пришибленно:
— Хватит. Сев, ложись давай, — боялся я теперь не своего голоса и не молчания, а брата. Что с ума сошел родственник мой единственный. Совсем упился к своим тридцати с копейками. И картины жуткие тут же нарисовались: в психушку упекут ведь его. Или помрет. Или глупость какую сотворит. Или еще чего. Страшно вот так брата потерять. Ведь к тому и шло, разве нет? Пьянствовать не умел он. Если пил, то до такого состояния, пока наземь не рухнет.
— Иди посмотри, Жека. Там она сидит. На кухне, говорю, сидит. За столом.
— Хватит. Не надо. Ложишь. Слышишь? — говорю, а сам плачу от страха, что один теперь останусь, что на Севке крест можно ставить, и на карьере, и на учебе. Куда его, дурачка, теперь возьмут...
— Иди посмотри. На кухне она.
— Утром посмотрю. Сев... завтра утром посмотрим вместе... Хорошо?
А утром братец преспокойно сопел в обе дырочки. Рядом со мной, у стеночки, уткнувшись лицом в подушку. И не было словно никаких ночных происшествий. За окном светло; жизнь кипела. Опоздал я на учебу, а Севка на работу. Я выкручусь, не впервой. А Севка на штраф налетит. Ладно, бывает, перемелим. Мелочи. Важно, что день наступил, и мысли эти дурацкие выветрились. Больше Севке пить не дам. Костьми лягу, но к бутылке не притронется.
Холодно что-то. Окно опять не закрыли, наверное.
Похрустывая позвонками, встал, двинулся на кухню.
Балконная дверь распахнута настежь. Вонища канализацией. На столе гора пустой алкогольной тары. А на табуретке, привалившись спиной к холодильнику, сидела окостеневшая женщина бомжеватого вида. С лицом серым и языком наружу.
/2011/
фото: Arthur Tress






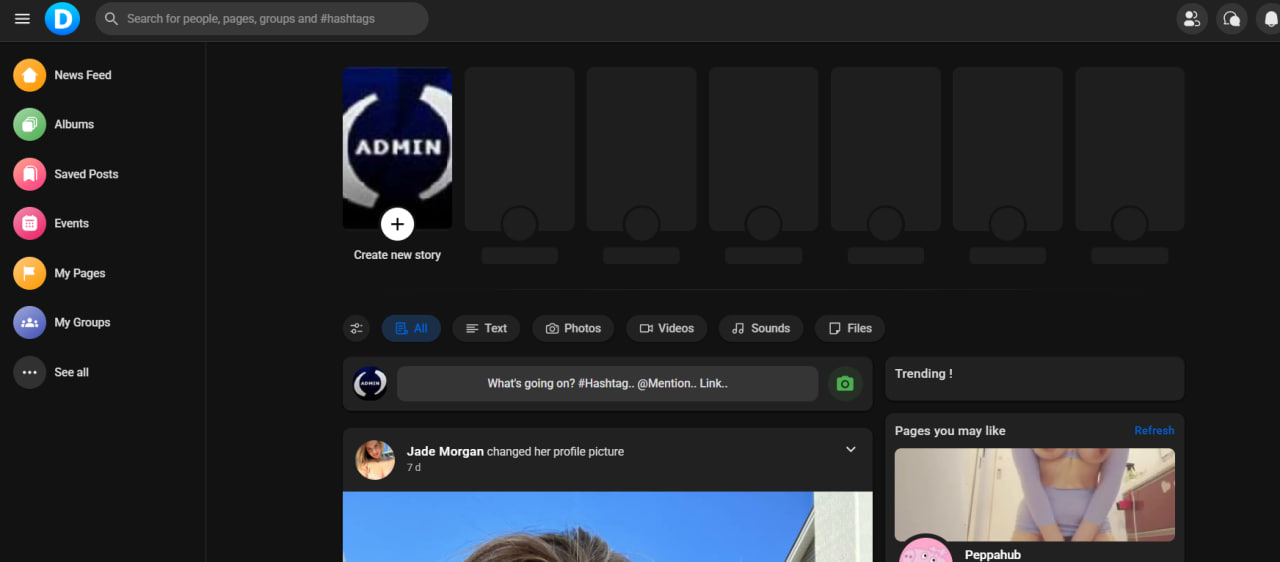





















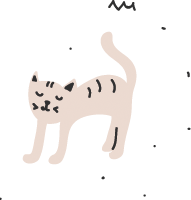
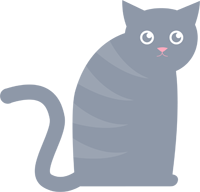

Комментарии